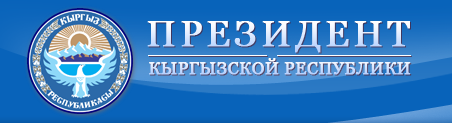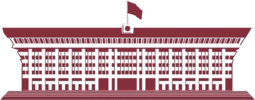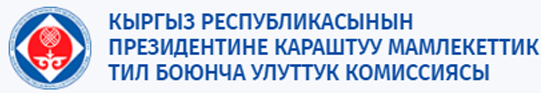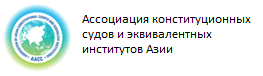Пресс-релиз по делу о проверке конституционности частей 1, 2 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Айткулова И.Н., представляющего интересы Сакимбаевой А.Б.
4 июня 2025 года Конституционный суд Кыргызской Республики рассмотрел дело о проверке конституционности частей 1, 2 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса.
Айткулов И.Н. считает, что оспариваемые нормы не предусматривают механизм обжалования судебных решений со стороны лиц, чьи права затрагиваются, но которые формально не признаны участниками уголовного процесса.
По его мнению, это препятствует доступу к правосудию не по причине отсутствия правового интереса, а вследствие формально созданной процессуальной конструкции, ограничивающей возможность защиты нарушенного права. Указанное, по его мнению, противоречит конституционным принципам верховенства права, неотчуждаемости прав и свобод, равноправия сторон и гарантиям судебной защиты, закрепленным в Конституции.
По итогам рассмотрения дела, Конституционный суд пришел к следующим выводам.
В ходе расследования и судебного разбирательства уголовных дел нередко возникают ситуации, связанные с множественностью эпизодов, участием нескольких обвиняемых в одном производстве, а также иными сложными конфигурациями уголовного преследования, которые затрудняют защиту прав участников процесса и тем самым требуют применения института выделения уголовного дела в отдельное производство.
Этот механизм, закрепленный в статье 142 УПК, направлен на соблюдение принципов презумпции невиновности, объективности, беспристрастности и индивидуализации ответственности, исключая риск переноса обвинительного уклона и обеспечивая независимую оценку доказательств по каждому обвиняемому. При этом выделение дела не предрешает вопрос о виновности, поскольку окончательная юридическая оценка остается исключительной компетенцией суда.
УПК допускает возможность разрешения уголовно-правового конфликта посредством заключения соглашения о признании вины (глава 57). Этот институт является особой формой процессуального урегулирования, при которой добровольное и осознанное согласие обвиняемого с предъявленным обвинением позволяет в упрощенном и ускоренном порядке разрешить вопрос о его уголовной ответственности, сохраняя неизменными правовую квалификацию деяния и пределы ответственности.
Несмотря на диспозитивный характер, соглашение не сводится к договоренности между обвинением и защитой. Законодатель установил детализированную процедуру и многоуровневый механизм контроля (статьи 501-503 УПК), направленный на исключение процессуальных злоупотреблений и обеспечение подлинной добровольности признания. Так, процедура включает несколько обязательных стадий: прокурор рассматривает ходатайство обвиняемого, принимает решение и составляет текст соглашения, фиксируя все существенные условия, после чего следственный судья проводит полноценную правовую проверку добровольности, осознанности и отсутствия давления. Следовательно, институт соглашения о признании вины строится на принципе двухступенчатого процессуального контроля, что исключает риск формального утверждения без должной проверки.
Судебное разбирательство уголовного дела, основанного на соглашении о признании вины, осуществляется в особом порядке, регламентированном статьями 503–504 УПК. Существенной особенностью этого порядка является отказ от проведения традиционного судебного разбирательства: суд выносит приговор без исследования и оценки доказательств, опираясь на признание вины обвиняемым, законность заключенного соглашения и соблюдение всех установленных законом требований. Такая модель основана на презумпции добровольности и осознанности признания вины, в связи с чем законодатель исключил возможность обжалования такого приговора по основаниям, связанным с неисследованностью доказательств (часть 7 статьи 504 УПК), что подтверждает его процессуальную специфику.
В связи с изложенным Конституционный суд признает институт соглашения о признании вины допустимым в рамках конституционного правопорядка. Такой вывод обусловлен тем, что указанная правовая конструкция исключает произвольность, обеспечивает правовую определенность и выступает гарантией соблюдения справедливого судопроизводства, включая добровольность признания и недопустимость принуждения. Благодаря этому достигается необходимый баланс между эффективностью уголовного преследования и защитой прав обвиняемого, а также реализуется принцип процессуальной экономии без ущерба для правовых гарантий.
В случаях многофигурного уголовного преследования заключение одним из обвиняемых соглашения о признании вины требует выделения уголовного дела в самостоятельное производство, что обусловлено не только различием процедур упрощенного порядка против традиционного судебного разбирательства, но и необходимостью соблюдения принципов индивидуализации ответственности, объективности, беспристрастности и презумпции невиновности, а также защиты прав других обвиняемых. Выделение позволяет рассматривать дело обвиняемого, выразившего готовность понести наказание, обособленно, не предрешая и не влияя на исход других участников производства, по которым сохраняется право на всестороннее исследование доказательств и полноценное судебное разбирательство по существу.
При этом важно подчеркнуть, что приговор, вынесенный в рамках выделенного производства на основании соглашения о признании вины, не обладает преюдициальной силой в отношении других обвиняемых по основному делу. Он принимается без исследования доказательств и действует исключительно в пределах правового статуса лица, заключившего соглашение.
В свою очередь, у участников основного дела сохраняется весь комплекс процессуальных гарантий, в частности право на судебную защиту: возможность на исследование доказательств, представление возражений и истребование материалов из выделенного производства, с вынесением обоснованного и справедливого приговора. А также использование таких институтов пересмотра судебных актов, как пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Таким образом, приговор, вынесенный в рамках выделенного производства на основании соглашения о признании вины, не затрагивает конституционные права заявителя.
Право на апелляционное обжалование уголовных дел, в соответствии с УПК, предоставляется строго определенным сторонам процесса – обвиняемому, его защитнику, прокурору, потерпевшему и их представителям, то есть тем, чьи права и интересы непосредственно затрагиваются судебным решением. Такое ограничение прямо вытекает из конституционных принципов права на судебную защиту, состязательности и равноправия сторон.
В то же время законодатель допускает возможность подачи жалобы и со стороны иных лиц, на имущество которых наложен арест либо возложена обязанность по возмещению ущерба (часть 2 статьи 397 и часть 1 статьи 440 УПК), признавая, что последствия уголовного преследования могут выходить за пределы правового статуса его участников.
Однако применяемое регулирование носит ограниченный характер и сужается до указания на случаи ареста имущества, не охватывая иные формы вмешательства в имущественные права, такие как ограничение или лишение права собственности, уничтожение имущества либо иные последствия, прямо не указанные в законе, но имеющие сопоставимую правовую значимость.
Признание факта затронутости имущественных прав не может зависеть исключительно от формального участия лица в уголовном процессе. В случаях, когда последствия уголовного преследования объективно затрагивают имущество лица, даже если оно не признано потерпевшим или стороной по делу, ему должно быть обеспечено эффективное средство судебной защиты, соответствующее принципам правового государства и обеспечивающее справедливость разбирательства. Необходимо также иметь ввиду, что право обжалования судебных актов в кассационной инстанции сформулировано более широко, нежели чем в апелляционном порядке. Учитывая изложенное, законодателю необходимо также гармонизировать уголовно-процессуальное законодательство, в части, регулирующего порядок обжалования судебных актов как в апелляционной, так и в кассационной инстанциях.
Во избежание произвольного расширения круга субъектов обжалования и недопущения подрыва целей правосудия, Конституционный суд считает целесообразным, чтобы детализация критериев затрагивания имущественных прав была осуществлена Пленумом Верховного суда Кыргызской Республики посредством разъяснений, обеспечивающих единообразие и предсказуемость практики.